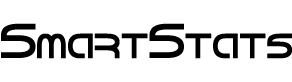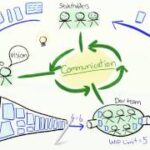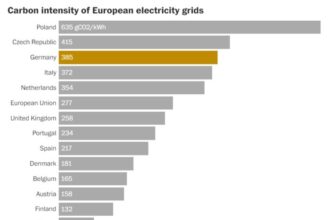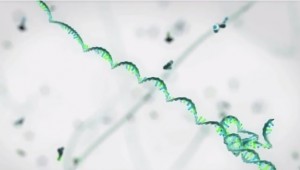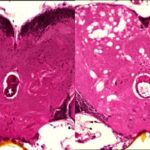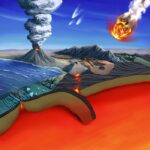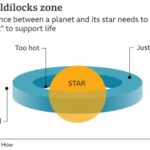Последний известный тилацин, широко известный как тасманийский тигр, находился в неволе в 1936 году. Этот сумчатый хищник был истреблен в результате охоты человека. В то время, когда европейцы колонизировали Австралию, ареал обитания тилацина был ограничен Тасманией, но он недолго сохранялся в контакте с европейцами.
Последний известный тилацин, широко известный как тасманийский тигр, находился в неволе в 1936 году. Этот сумчатый хищник был истреблен в результате охоты человека. В то время, когда европейцы колонизировали Австралию, ареал обитания тилацина был ограничен Тасманией, но он недолго сохранялся в контакте с европейцами.
Тилацин в настоящее время является одной из основных целей борьбы с вымиранием – буквально спасением вида от вымирания с помощью технологии клонирования. Эта работа только что получила значительный импульс. Мельбурнский университет только что получил грант в размере 5 миллионов долларов на развитие своей лаборатории по исследованию комплексного генетического восстановления тилацина (TIGRR). Ученым нравятся их умные аббревиатуры, и мне интересно, как долго им пришлось работать над этим.
У исследователей в лаборатории есть конкретный план, как вернуть тилацин. Они уже завершили первый этап, который заключается в полной расшифровке генома тилацина. Теперь им нужно изучить этот геном, чтобы понять его как можно лучше. Им нужно будет синтезировать полный геном, а затем поместить его в стволовые клетки, полученные от другого сумчатого животного. Вот тут и начинается процесс клонирования. Из стволовой клетки удаляют ДНК, вводят новую ДНК и затем заставляют клетку делиться, образуя эмбрион. Затем они планируют имплантировать эмбрион в живого хозяина, например, в тасманийского дьявола, который затем даст жизнь живому тилацину.
Это сложный процесс. Мы и раньше клонировали крупных млекопитающих, но не вымерших видов. Кроме того, этот процесс не выполняется, когда у нас есть один тилацин. Цель состоит в том, чтобы создать размножающуюся популяцию. Это означает, что нам нужно много особей, как мужского, так и женского пола, с достаточным генетическим разнообразием. Как только они создадут в неволе популяцию для размножения, конечной целью будет их возвращение в экосистему Тасмании.
Вот почему так много внимания уделяется тилацину для борьбы с вымиранием. Одним из критических замечаний к концепции борьбы с вымиранием является вопрос о том, что мы будем делать с животными, когда клонируем их обратно к существованию? Я думаю, мы можем отвергнуть упрощенное представление, высказанное доктором Иэном Малкольмом в “Парке Юрского периода”, о том, что вымершим животным каким-то образом “суждено было” исчезнуть. Иногда это выражается как очень расплывчатое представление о том, что вымирание не является “естественным”. Более серьезные опасения вызывает вопрос о том, где могли бы жить эти животные. Независимо от того, как и почему они вымерли, экосистемы, в которых они когда-то обитали, могут больше не существовать. Они двинулись дальше, адаптировавшись к миру без них. Мы не должны просто так возвращать новых существ в естественную экосистему, не заботясь о последствиях.
Но ситуация с тилацинами, возможно, уникальна. Они вымерли сравнительно недавно, и экосистема Тасмании с тех пор практически не изменилась. Их можно просто реинтродуцировать и продолжить с того места, на котором они остановились. На самом деле, исследователи считают, что экосистема только выиграет от их присутствия. То же самое может быть справедливо и для других недавно исчезнувших видов, скажем, в течение последнего столетия или двух. Если бы мы вновь завезли голубую антилопу, дятла с клювом цвета слоновой кости или большую гагарку, я сомневаюсь, что это нанесло бы ущерб экосистеме. Возможно, и даже вероятнее всего, что повторная интродукция недавно вымершего вида может нанести меньший ущерб экосистеме, чем его первоначальное исчезновение.
Таким образом, в списке недавно вымерших животных есть много животных, которых можно было бы безопасно реинтродуцировать после прекращения вымирания. Существует также возможность создания естественных убежищ для некоторых животных. Новая Зеландия участвует в долгосрочном проекте под названием Zealandia (который я посетил, когда был в Новой Зеландии, и он очень классный). Это обнесенное стеной природное убежище, где тщательно охраняются виды, завезенные на остров, особенно такие хищники, как кошки, крысы, мыши и опоссумы. Их цель – постепенно вернуть Зеландию к тому состоянию, каким была экосистема острова до прибытия европейцев или даже любого другого человека. Возможно, если мы сможем уничтожить моа, их можно будет ввести в эту охраняемую экосистему. Нет причин, по которым зеландский эксперимент нельзя было бы повторить в других местах.
Однако, чем дальше в прошлое уходит вымирание и чем крупнее вымерший вид, тем более противоречивой становится его повторная интродукция. Знаковым видом, подчеркивающим эту проблему, является шерстистый мамонт, который вымер около 4000 лет назад (или дольше в разных экосистемах). Экосистемы, в которых обитал шерстистый мамонт, больше не существуют. Итак, куда бы мы их поместили? Они гигантские, нуждаются в большом количестве пищи и пространства, и их нелегко приспособить к окружающей среде.
Опять же, я думаю, что можно создать убежище, которое могло бы включать популяцию шерстистых мамонтов. Если не считать этого, им пришлось бы жить в неволе. Эта концепция остается спорной – должны ли мы уничтожать вид, которому суждено жить только в неволе? Конечно, границы между зоопарком, парком и приютом размыты. Как бы вы это ни называли, здесь должна быть большая среда обитания, где животные могли бы свободно передвигаться. Одно из ключевых отличий заключается в том, что в зоопарке или парке необходимо обеспечить животных пищей, в то время как в естественном убежище животные могли бы найти пищу в окружающей среде. В любом случае, разумно предположить, что животные могли бы быть счастливы, если бы у них было большое пространство, свободное от стрессов.
Программы по борьбе с вымиранием также полезны с научной точки зрения. Они обязательно будут включать в себя изучение большого объема генетики и биологии, технологии клонирования, и мы сможем узнать больше о видах, которых мы хотим спасти от вымирания. Достижения также могут быть использованы для предотвращения вымирания существующих, но находящихся под угрозой исчезновения видов. Нам не нужно ждать, пока они полностью исчезнут, чтобы улучшить их популяцию и генетическое разнообразие.