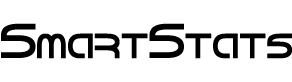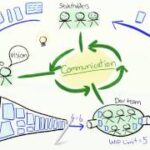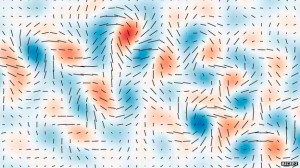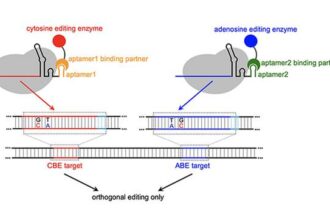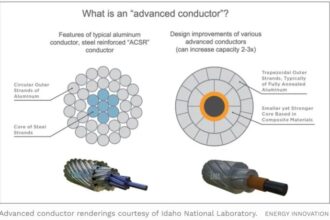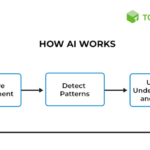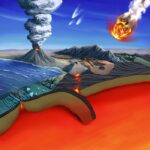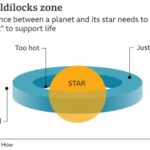До сих пор ведутся споры о том, в какой степени скептическое отношение к жизни является естественным, а в какой – приобретенным. Простого ответа на этот вопрос нет, поскольку человеческая психология сложна и многогранна. Люди действительно проявляют естественный скептицизм по отношению ко многим утверждениям, но при этом, похоже, с жалкой доверчивостью принимают другие утверждения. Взрослым также может быть трудно определить, насколько скептицизм приобретенный, а не врожденный.
До сих пор ведутся споры о том, в какой степени скептическое отношение к жизни является естественным, а в какой – приобретенным. Простого ответа на этот вопрос нет, поскольку человеческая психология сложна и многогранна. Люди действительно проявляют естественный скептицизм по отношению ко многим утверждениям, но при этом, похоже, с жалкой доверчивостью принимают другие утверждения. Взрослым также может быть трудно определить, насколько скептицизм приобретенный, а не врожденный.
Вот тут-то и вступает в игру психология развития. Мы можем обследовать детей разного возраста, чтобы увидеть, как они себя ведут, и это может дать представление о естественном поведении человека. Конечно, даже маленькие дети не свободны от культурных влияний, но это, по крайней мере, может дать некоторую интересную информацию. В недавнем исследовании рассматривались два взаимосвязанных вопроса: принимают ли дети (в возрасте 4-7 лет) неожиданные заявления взрослых и как они реагируют на эти заявления. Неожиданное заявление – это такое, которое противоречит общеизвестным фактам, которые должен знать даже 4-летний ребенок.
Например, в одном исследовании взрослый показал детям камень и губку и спросил, какой камень мягкий или твердый. Все дети считали, что камень твердый. Затем взрослый либо говорил им, что камень твердый, либо что камень мягкий (или, в одном случае, что камень мягче губки). Когда взрослый подтверждал убеждения детей, они продолжали придерживаться своего мнения. Когда взрослый не соглашался с их мнением, многие дети меняли свое мнение. Затем взрослый выходил из комнаты под предлогом, что за детьми наблюдали с помощью видеозаписи. Неудивительно, что они, как правило, проверяли неожиданные утверждения учителя путем непосредственного исследования.
Это неудивительно – дети, как правило, любят исследовать и трогать предметы. Однако 6-7-летние дети использовали (или предлагали во время онлайн-версий тестирования) более подходящие и эффективные методы проверки неожиданных утверждений, чем 4-5-летние. Например, они хотели напрямую сравнить твердость губки и камня.
По сути, это и другие исследования говорят нам о том, что даже маленькие дети не всегда верят взрослым, особенно когда те заявляют о чем-то удивительном (что противоречит существующим знаниям). Кроме того, дети будут заниматься исследованиями, чтобы проверить неожиданные утверждения. Дети постарше будут проводить более сложные и эффективные тесты. Все это не так уж удивительно, но подтверждает вывод о том, что людям свойственно задавать вопросы и исследовать. Как это позволяет получить более полное представление о природе веры и скептицизма у взрослых?
Прежде всего, мы должны признать, что поведение человека определяется какофонией противоречивых импульсов и желаний. Это затрудняет “перепроектирование” конкретных факторов из общего поведения. В лучшем случае мы можем сделать вывод о вероятных факторах влияния. В данном случае действительно кажется, что людям присуще стремление исследовать окружающий мир, проверять, как все работает, и предъявлять конкретные требования. Карл Саган наблюдал это во время своих частых встреч с маленькими учениками – они любопытны, задают содержательные уточняющие вопросы и творчески подходят к предложению возможных ответов на вопросы. Но дети постарше, по его наблюдениям, обычно сдержанны и неразговорчивы. Он пришел к выводу, что дети – прирожденные ученые, но такое поведение у них выбивается из-за социального давления, заставляющего соответствовать и не выделяться.
Другие, однако, отмечали, что это лишь частичная картина. Что, хотя дети от природы могут быть любознательными исследователями, им не хватает формального критического мышления или логических навыков, чтобы в полной мере участвовать в таком поведении. Таким образом, у людей может быть естественное желание стать учеными, но это не дает им автоматически такой возможности. У нас также есть другие естественные желания, которые вступают в противоречие с желанием задавать вопросы и исследовать, например, желание принадлежать к группе.
Например, несколько исследований показали, что часть мозга, отвечающая за критическое мышление, отключается при прослушивании оратора, которого они считают харизматичным (что включает в себя принадлежность к идеологической группе слушателя). Мы можем буквально видеть, как в мозгу возникают эти противоречивые импульсы – склонность к скептицизму подавляется харизматичным оратором, выступающим в группе. Это, в некотором смысле, подтверждает точку зрения Сагана о том, что наши научные импульсы могут быть более врожденными, но мы учимся соответствовать культуре, не подвергать сомнению определенные вещи и формировать свое мировоззрение так, чтобы оно соответствовало взглядам окружающих нас людей.
Для краткости я расскажу о том, на каком этапе находятся исследования в настоящее время, в сочетании с моим опытом активного скептика на протяжении нескольких десятилетий. Похоже, что многие люди (я бы не сказал, что все) имеют естественную склонность задавать вопросы и исследовать. Все мы думаем о себе как о философах-любителях и ученых. Решая вопросы, которые не имеют большого культурного или племенного значения, мы склонны придерживаться байесовского подхода к вере (который является абсолютно рациональным). Мы корректируем свои убеждения в соответствии с поступающими новыми доказательствами. Мы не просто заменяем старые свидетельства, мы сводим их воедино, но и с радостью приводим в соответствие с ними то, во что мы верим.
Степень, в которой мы можем это сделать, зависит от нескольких факторов. Во-первых, от нашей текущей базы знаний. Чем больше мы знаем, тем лучше можем интегрировать новую информацию в обоснованную модель реальности. Это включает в себя оценку объема и достоверности новой информации и разрешение очевидных информационных противоречий. Однако всякий раз, когда речь заходит о нашей групповой принадлежности, мировоззрении, самооценке или идеологии (когда в игру вступают наши эмоции), правила существенно меняются. Тогда мы занимаем оборонительную позицию и прибегаем к мотивированным рассуждениям, чтобы сохранить свои эмоционально значимые убеждения.
Кроме того, нам необходимо учитывать роль внешнего воздействия. Мы не просто исследуем мир природы, но и взаимодействуем с другими людьми, у которых есть свои собственные мотивы. Люди могут лгать нам, даже поджигать нас, давить на наши эмоциональные кнопки и использовать свою харизму, чтобы отключить наши навыки критического мышления. Они могут использовать человеческую природу, чтобы оказывать чрезмерное влияние на наши убеждения, или даже использовать ложное направление и обман, чтобы повлиять на то, что, как нам кажется, мы видим.
Еще один аспект заключается в том, что люди используют разные когнитивные стратегии одновременно. В этом контексте, возможно, наиболее важным является мышление по принципу “система 1 против системы 2”, или, как выразился Канеман, “Думать быстро и думать медленно”. Быстрое мышление – это интуиция, алгоритмы, работающие на подсознательном уровне нашего сознания, которые эволюционировали для принятия быстрых и достаточно обоснованных решений. Медленное мышление – это аналитическое мышление, когда мы выполняем определенные логические шаги, чтобы прийти к надежному выводу. Система мышления 1 похожа на подсчет количества драже в банке, в то время как система 2 предполагает их подсчет для получения точного количества.
Люди действительно отличаются по степени, в которой они полагаются на интуитивное мышление, а не на аналитическое. Более того, аналитическое мышление – это сложный навык, которому необходимо научиться, и этот навык может сильно различаться у разных людей.
Конечно, дети – ученые-естественники, даже скептики, но это только начало. Мы должны развивать эту склонность, подкреплять ее конкретными знаниями и навыками и остро осознавать все то, что может помешать нашему любопытству или подавить и даже перехватить нашу логику.