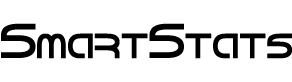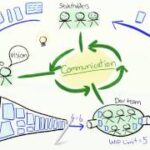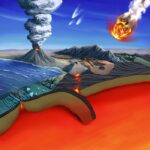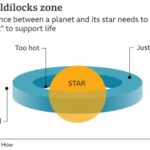На мой взгляд, одна из самых обнадеживающих технологий будущего, которые мы разрабатываем сегодня, – это взлом нервной системы с помощью электромагнитной записи и стимуляции. Сигналы нервной системы в конечном счете являются электрическими, что удобно, поскольку у нас есть целая зрелая технология, основанная на управлении потоком электроэнергии. У нас также появляются все более мощные компьютеры и программные алгоритмы, позволяющие считывать и воссоздавать эти электрические сигналы. В настоящее время ограничивающим фактором для этой технологии является аппаратное обеспечение – электроды, которые мы используем для взаимодействия с нервной тканью. По мере развития этой технологии развиваются и наши приложения.
На мой взгляд, одна из самых обнадеживающих технологий будущего, которые мы разрабатываем сегодня, – это взлом нервной системы с помощью электромагнитной записи и стимуляции. Сигналы нервной системы в конечном счете являются электрическими, что удобно, поскольку у нас есть целая зрелая технология, основанная на управлении потоком электроэнергии. У нас также появляются все более мощные компьютеры и программные алгоритмы, позволяющие считывать и воссоздавать эти электрические сигналы. В настоящее время ограничивающим фактором для этой технологии является аппаратное обеспечение – электроды, которые мы используем для взаимодействия с нервной тканью. По мере развития этой технологии развиваются и наши приложения.
Это именно тот постепенный прогресс, о котором сейчас сообщается, с особым упором на тяжелую травму спинного мозга. Однако я думаю, что в большинстве основных сообщений отсутствуют некоторые важные детали. Сначала давайте обсудим реальную науку – в журнале Nature опубликован отчет о трех случаях, подтверждающих эффективность использования стимуляции спинного мозга, позволяющей людям с повреждением спинного мозга ходить. Это старая технология, которая была разработана за последние несколько десятилетий и называется EES – эпидуральная электрическая стимуляция. Так что в этом нет ничего нового. В отчете говорится о небольшом, но значимом улучшении аппаратуры.
У всех трех испытуемых были повреждения спинного мозга с полной потерей моторики и чувствительности ниже уровня повреждения, что, по сути, означает, что они вообще не могли двигать ногами или чувствовать их. Технология имплантирует электроды на спинномозговые корешки ниже места повреждения. Это стволы спинномозговых нервов, которые передают сенсорную информацию в спинной мозг. Зачем стимулировать сенсорные нервы, чтобы заставить мышцы двигаться? Потому что эти сигналы попадают в спинной мозг (который представляет собой физически небольшое пространство), где они стимулируют двигательные нейроны. Нейробиологи научились располагать эти электроды таким образом, чтобы направлять электрические сигналы туда, куда они хотят, и предотвращать их распространение на двигательные нейроны с другой стороны или на те, которые они не хотят стимулировать. Используя этот метод, они могут стимулировать группу двигательных нейронов, которые обычно задействованы при выполнении двигательных задач, таких как ходьба. Если бы они вместо этого стимулировали вентральный двигательный корешок, это просто заставило бы всю ногу сокращаться, не заставляя ее двигаться полезным образом.
Инновацией здесь является изменение используемых электродов. Ранее нейробиологи использовали электроды, которые были разработаны для стимуляции спинных корешков для снятия боли. Эти электроды были перепрофилированы для проведения ЭЭГ, но они не были предназначены для этой цели и не были идеальными. Например, они слишком короткие, чтобы добраться до всех желаемых точек стимуляции. Поэтому исследователи разработали новые электроды для более точной стимуляции спинных корешков желаемым образом. Это усовершенствование сработало, позволив испытуемым ходить, используя внешнюю стимуляцию. Кроме того, они смогли передвигаться намного быстрее, при меньших затратах на обучение, чем при использовании более старых технологий.
Это прогресс. Это приятно, но он очень постепенный. Но, конечно, средства массовой информации должны придать этому как можно более впечатляющий вид. Например, Би-би-си неверно утверждает, что это первый случай, когда человек с полностью поврежденным спинным мозгом смог ходить. У этих людей даже не было полностью поврежденного спинного мозга. Я думаю, репортер перепутал полный паралич с полным отсечением. В отчете правильно указано, что эта технология не является лекарством от травмы и не используется регулярно в повседневной жизни. Но, тем не менее, я думаю, что они создают неверное представление о том, как она работает.
На их схеме и в объяснении говорится, что имплантат “усиливает сигнал”, идущий сверху от травмы. Конечно, это было бы несовместимо с полностью разорванным спинным мозгом, поэтому они противоречат друг другу. Стимулятор находится полностью под повреждением и активируется внешним управлением, а не сигналами, поступающими от головного мозга вниз по спинному мозгу. Тем не менее, репортер в некотором роде прав в отношении “усиления сигнала” над повреждением. Я говорю “в некотором роде”, потому что детали разные. Опять же, сигналы активации полностью независимы от всего, что происходит над повреждением. Исследователи обнаружили, что с практикой испытуемые смогли модулировать активность мышц ног, генерируемую внешней стимуляцией. Произвольная модуляция подразумевает, что какой-то сигнал спинного мозга проходит через точку повреждения. Кроме того, после использования устройства в течение некоторого времени они смогли восстановить очень слабое произвольное движение ног.
Исследователи интерпретируют это как то, что некоторые остаточные нейроны не были полностью уничтожены травмой (и, следовательно, связки по определению не могли быть полностью разорваны). Эти остаточные двигательные нейроны находились в спящем состоянии из-за отсутствия стимуляции, и устройство EES активировало их. Но, опять же, это приводило лишь к слабому двигательному контролю, которого само по себе было недостаточно, чтобы стоять, ходить или делать что-либо значимое. Но это добавило немного произвольного контроля к движениям, генерируемым EES, и это может быть клинически значимым.
Неясно, приведет ли этот технологический подход к травмам позвоночника к какому-либо значимому восстановлению, которое было бы актуально в повседневной жизни. Скорее, это полезный реабилитационный инструмент, позволяющий пациентам двигаться и заниматься физическими упражнениями, что имеет некоторые физиологические преимущества, такие как повышение артериального давления. Возможно, усовершенствованная версия этой технологии может быть достаточно хороша, чтобы позволить людям ходить свободно, почти нормально. Я подозреваю, что для этого потребуется нечто большее, чем просто стимулятор, например, какой-нибудь робот-ассистент.
Этот подход не решает некоторые проблемы, связанные с тяжелой травмой спинного мозга. Отсутствие сигналов, поступающих из-за травмы, вызывает, например, сильную спастичность в ногах. Это можно вылечить, но подавление спастичности также вызывает мышечную слабость, а мышцы и так слабы из-за недостаточного использования. Недостаток сенсорной информации также является проблемой, поскольку это, по сути, мешает естественному управлению ногами.
Гораздо лучший подход, если мы сможем его реализовать, – это биологическая регенерация спинного мозга, восстановление достаточной активности в месте повреждения для восстановления двигательных и сенсорных функций. Это совершенно другой подход, и исследователи также работают над ним на протяжении десятилетий. Мы добились значительного прогресса в фундаментальной науке, но еще не достигли той точки, когда мы сможем функционально восстановить спинной мозг, или даже не приблизились настолько, чтобы точно предположить, сколько времени потребуется, чтобы преодолеть этот порог. Возможно, лучше всего сработает сочетание этих двух подходов – восстановление некоторой функции спинного мозга, но затем усиление этой функции с помощью некоторого внешнего контроля. Следующие несколько десятилетий должны оказаться интересными.